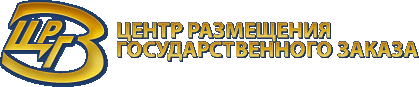СтатьиДвижение - все, цель - ничто
Увы, но все более очевидным становится то, что и Федеральный закон № 44-ФЗ не в состоянии решить главную проблему системы закупок, существующую в России - эффективное удовлетворение потребностей государства. Лучшим подтверждением несостоятельности закона служит количество поправок, внесенных в него. Еще до вступления в силу он уже «превзошел» своего предшественника, получив два пакета поправок. Напомню, что Федеральный закон № 94-ФЗ обошелся одним. Всего же, за три года, прошедших со дня принятия, закон о контрактной системе подвергся изменениям уже шестнадцать раз и, по всей видимости, он легко побьет «рекорд» 94-го, который подвергался изменениям «всего» сорок! раз. И причин тут две. Первая – квалификация законотворцев, почему-то регулярно обнаруживающих, что какой-то нюанс не учли при разработке, и в спешном порядке кидающихся «затыкать дыры» в прочно сидящем на мели баркасе, под названием госзакупки. Вторая причина, являющаяся следствием той же отсутствии квалификации – стремление максимально жесткого регулирования процедур, при этом не обращая внимания на удобство применения и эффективность. И здесь уже невозможно не вспомнить классический афоризм, причем не со смыслом, заложенным в первоисточнике у Эдуарда Бернштейна, а с ироничным подтекстом у Владимира Войновича: «– Но в таком случае, – сказал я, – ваши ученые занимаются просто глупостью. Теми методами, которые они применяют, они из этих кусочков никогда ничего не извлекут. – А им ничего извлекать и не нужно, – беспечно махнул рукой профессор. – Им нужно, чтобы был институт, директор, замдиректора, парторг, священник, начальник службы БЕЗО, руководители лабораторий. Из этих должностей они извлекают довольно много пользы. А извлекать информацию из пленки – это дело десятое. Как правильно заметил наш Гениалиссимус: «Движение – все, цель – ничто». Хорошо сказано, правда?». Действительно, сказано хорошо, тем более, что о достижении заявленных законодательством о закупках целях, давно уже никто даже не вспоминает. Главное – процесс! Как недавно сообщило Минэкономразвития РФ в разработке находятся 15 федеральных законопроектов о совершенствовании системы госзакупок. Еще несколько законопроектов уже находятся на различных стадиях согласования. Итак, посмотрим, что же это за очередные «совершенствования»? Разумеется, любая инициатива, касающаяся госзакупок, не может обойтись без обострения хронического заболевания под названием «повальная электронизация». Идеи о ней сопровождают систему закупок с самого начала последней реформы в 2005 году. Ни обоснованные предупреждения специалистов, об опасности чрезмерного увлечения электронными закупками, ни мировой опыт, ни, всем очевидные негативные последствия электронизации, не в состоянии поколебать железобетонную уверенность законодателя в «светлом будущем» электронных закупок в России. И ладно бы эта уверенность истекала только от электронных площадок, цель которых ясна и понятна – зарабатывание денег. Но такое же, крушащее все на своем пути, лоббирование электронизации властными структурами, наводит, как минимум на мысль о свирепствующей эпидемии, сходной с Pathological Computer Use (патологическое использование компьютера). И ведь что интересно – никто, ни разу даже не заикнулся об эффективности подобной электронизации. Еще во времена ФЗ-94 под электронными закупками стали понимать исключительно «аукционные ценовые игрища», а термин «эффективность» был полностью подменен термином «экономия», и при оценке итогов осуществленных закупок рассматривается только размер экономии бюджетных средств, рассчитываемый как разница между начальной (максимальной) ценой контракта и ценой, по которой была произведена закупка. Но ни разу, никто не удосужился проанализировать последствия перевода закупок в электронный вид. Тем не менее, с упорством, достойным лучшего применения, продолжает насильно внедряться практика электронных закупок. И очередная «свежая» идея такого внедрения - перевод закупок по типовым проектам повторного применения в сфере строительства на электронные аукционы. Действительно, «цель – ничто!». Но на этом законотворцы останавливаться не собираются и продолжают «на корню уничтожать» такой общепринятый в мировой практике, да и в обычной жизни, критерий отбора контрагента, как квалификация последнего. Очередное предложение об изменении критериев оценки закупок строительных работ (80% - цена, 20% - качество и квалификация, вместо 60/40), все ближе подводит к тому, что закупка строительных работ превратится, по сути, просто в закупку стройматериалов, без малейшего учета того, чьи руки будут управляться с этими материалами (если вообще смогут управиться). Это же касается и предложения об исключении из способов закупки конкурсов с ограниченным участием. Стоило ли три года назад «городить огород», внедряя данный способ, чтобы теперь, опять же, без малейшего анализа практики, отказываться от него. Целый ряд инициатив, опять-таки уже традиционно, направлен на поддержку субъектов малого предпринимательства. В первую очередь, разумеется, речь идет о повышении обязательных квот по закупкам у СМП с 15% до 25%. И снова приходится констатировать, что данное предложение не являет собой итог ни малейшего, сколько-нибудь, внятного анализа существующей системы. Можно бесконечно повышать формальные квоты, но без анализа закупок и диалога между заказчиками и поставщиками, реальный эффект закупок у малых предприятий равен, фактически «нулю» и многолетняя борьба за принудительное счастье малого бизнеса, являет собой движение без цели. И дело даже не в «принуждении к счастью», а том, что до сих пор, никому не приходило в голову изменить, изначально недалёкие критерии отнесения к малому бизнесу. Попытаться вычленить производственный, а не просто «посреднический». К примеру, по заявлению одного из руководителей крупной алмазодобывающей компании, каждый второй заказ в минувшем году достался малому и среднему бизнесу, у которого закупается техоборудование, автотранспорт, запчасти, услуги по строительству и монтажу оборудования. И я сомневаюсь, что устойчивая, крупная компания, готова терпеть убытки, переплачивая «прослойкам», только для того, чтобы отчитаться о существенном превышении ими обязательных квот закупок у малого бизнеса. Так что, даже сама тема «обеспечение счастья» исключительно административными мерами, давно вызывает раздражение. Ладно бы адресного, стимулирующего производство (да хотя бы частных химлабораторий) … но увы, «движение -все»! Еще одной идеей является установление запрета при расчете объемов закупок, осуществленных у СМП, привлекать в качестве соисполнителя по контракту лиц, аффилированных с генеральным подрядчиком (поставщиком, исполнителем). Скажите на милость, какая цель преследуется таким запретом? Какая разница, аффилирован он или нет. Он такой же субъект малого предпринимательства, как и все остальные, так же платит налоги, учитывается в статистике и вносит свою лепту в развитие малого бизнеса. Кроме того, как уже отмечалось, в половине случаев, этот СМП являет собой сопровождающее (обеспечивающее) производство, а не просто торговую прослойку. А ведь есть еще один, причем довольно щекотливый момент – лицо, являющимся аффилированным по отношению к головной компании, будет в разы дисциплинированнее и ответственнее при исполнении своих обязательств. Но даже такие «поверхностные» факторы, не могут повлиять на стремление властных структур поставить лишнюю «галочку» в статистике. Следующее «озарение» - это установление величины обеспечения контракта не от начальной (максимальной) цены контракта НМЦК, а от стоимости договора. Разумнейшее предложение, правда не поражающее своей новизной, ведь все так и было еще чуть больше десяти лет назад, пока не появилось «чудовище» под названием начальная цена. А ведь это элементарная математика. Привязывая обеспечение к начальной цене, заказчик автоматически еще более снижает выгодность для себя предложения поставщика, ведь издержки, вызванные необходимостью платить за банковскую гарантию, а уж тем более извлечением оборотных средств, разумеется, учитываются в структуре предлагаемой цены. То же самое относится и к законодательному установлению предельного срока возврата заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. Каждый день, сверх срока окончания исполнения обязательств стоит, как минимум, столько же, сколько и при исполнении контракта. Доходит до смешного. Недавно видел один контракт, в котором срок поставки был определен в 14 дней, а обеспечение исполнения контракта возвращалось в течение 60 банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования. А ведь это, если вдуматься, является по духу, фактически кредитованием заказчика, ведь в силу части 4 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации прекращение основного обязательства влечет прекращение обеспечивающего его обязательства, если иное не предусмотрено законом или договором, да и ответственность за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, предусмотренную статьей 395 ГК РФ никто не отменял. Еще одно непонятное новшество, вызывающее ряд вопросов - освобождение поставщиков от обязанности вносить обеспечение исполнения контракта при наличии 3-летнего положительного опыта исполнения аналогичных контрактов. Во-первых, если речь идет об освобождении поставщика от обязанности вносить обеспечение контракта, то придется «совершенствовать» и нормы закона, касающиеся антидемпинговых мер, которые были буквально «выгрызены» законотворцами у «специалистов -саботажников». Во-вторых, установление подобного требования является, по сути, своеобразной постквалификацией. Но простите, все десять лет «реформы госзаказа», эти «специалисты-саботажники», в один голос критиковали устранение возможности предъявления квалификационных требований к участнику, тогда как законотворцы агрессивно отметали саму мысль, о том, что с участника можно потребовать хоть сколько-нибудь вменяемое подтверждение своей квалификации, аргументируя свой протест тем, что «добросовестность поставщика обеспечивается экономическими инструментами, нарушил – плати». Что же получается, они пошли на попятную? Почему, в таком случае, это «послабление» касается только малого бизнеса? А ведь мало кто обратит внимание на имеющиеся в этой «новелле» противоречия. Одним из мотивов «смягчения», служат жалобы самих субъектов малого предпринимательства: «После того как выиграны торги – и до заключения контракта нам не всегда удается найти банк, готовый выдать гарантию». Простите, но во-первых, почему вы начинаете заниматься поиском банка уже после выигрыша контракта, а во-вторых, нежелание банков иметь с вами дело, в условиях нынешней экономической ситуации, когда банки буквально сражаются за каждого клиента, гораздо лучше иллюстрирует вашу «надежность», нежели исполненные контракты трехлетней давности. И если законотворцы так уж хотят сделать послабление для бизнеса, в нынешних кризисных условиях, может стоило бы рассмотреть возможность отмены обязательного обеспечения не по критерию отнесения к СМП, а в привязке к отдельным категориям закупок, например услуг, требующих лицензирования. Или, как неоднократно предлагали специалисты, создать хотя бы для тех же субъектов малого предпринимательства «белый реестр» поставщиков, которые будут допущены до участия в госзаказе только после тщательной проверки, а до крупных заказов — после длительного «завоевания» репутации на более низком (стоимостном) уровне. Однако, судя по всему «ничего совершенствовать никому и не нужно. Нужно, чтобы был институт, директор, замдиректора, парторг … Движение – все, цель – ничто». |