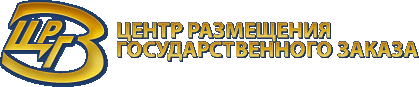СтатьиИтоги 2015 года
Уходящий год знаменует собой окончание первой десятилетки «новой эры» государственных и муниципальных закупок в Российской Федерации. И по традиции, вне зависимости от «юбилейности», он был весьма богат, как на новые события в области закупок, так и на «обновления» текущих процессов. Я бы выделил три основные тенденции в сфере закупок в 2015 году - продолжение продавливания идеи о всеобщей электронизации, повальное импортозамещение и смена вектора в сфере контроля, а именно сужение вертикали контроля. Но по-порядку: Идеи о всеобщей электронизации сопровождают систему закупок с самого начала последней реформы в 2005 году. Я имею ввиду принятие Федерального закона № 94-ФЗ, кардинально изменившего систему закупок в России и внедрившего практику электронных аукционов. И с тех пор, торги на электронных площадках традиционно считаются способом повысить прозрачность закупок и снизить цены. Позволю себе не согласиться ни с одним утверждением. Не отрицая очевидные преимущества электронных аукционов при закупках стандартной продукции, прогрессивное законодательство о закупках однозначно продвигает открытый конкурс в качестве наиболее предпочтительного способа осуществления закупок. Об этом говорит и сам Закон о контрактной системе. Напомню, что в Законе прямо сказано, что заказчик во всех случаях осуществляет закупку путем проведения открытого конкурса, за исключением случаев, специально предусмотренных законом. Однако это не мешает продолжать лоббировать в качестве основного способа закупок электронный аукцион. Замечу, что зарубежное закупочное законодательство вообще не предусматривает использование традиционного аукциона в качестве способа размещения заказа в таких масштабах, как в России. Ни в Типовом законе ЮНСИТРАЛ, ни в Директивах ЕС, ни в ПФЗ США, ни в руководствах Всемирного банка. Тем не менее, в России, с упорством, достойным лучшего применения, продолжает насильно внедряться практика электронных закупок. Да, в чем-то, они зарекомендовали себя с положительной стороны. Однако, как оказалось, внедрение электронных аукционов начало оказывать и негативное влияние на систему госзаказа. Негатив выразился, прежде всего, в наделении электронных площадок чрезмерными функциями, по определению, принадлежащими заказчикам. И последние оказались «заложниками» профессионализма и добросовестности «третьего лица», искусственно внедренного в отношения двух сторон договора (заказчика и участника). Мало того, даже среди этих «третьих лиц» устранена конкуренция и их круг ограничен пятью площадками. Второй серьезный минус такой «повальной электронизации» - серьезное увеличение количества недобросовестных поставщиков, при том, что российское закупочное законодательство декларирует, в качестве одной из основных целей, развитие добросовестной конкуренции. Фактическое уничтожение права на установление квалификационных требований привело к тому, что был создан режим наибольшего благоприятствования для недобросовестных поставщиков. И дальнейшее снижение возможности использовать, пусть и субъективные факторы выбора победителя (качество продукции, квалификация участников), содержание которых заказчик может определять самостоятельно, грозит оставить рынок госзаказа совсем беззащитным перед недобросовестными поставщиками. А ведь неоднократно законодателям указывали на возможность решения данной проблемы, путем создания хотя бы в знаковых областях «белого реестра» поставщиков, которые будут допущены до госзаказа только после тщательной проверки, а до крупных заказов — после длительного «завоевания» репутации на более низком (стоимостном) уровне. «Электронные аукционы, практика которых, безусловно, показывает высокую эффективность этой формы, имеют также ряд ограничителей. Такие ограничители связаны с тем, что в ряде случаев технологическая сложность закупаемых товаров в условиях электронного аукциона как бы позволяет осуществлять ценовой демпинг и выигрывать их тем исполнителям работ, поставщикам товаров, которые по своей технологичности не готовы к такого рода деятельности» (А.В. Улюкаев, министр экономического развития Российской Федерации). А о якобы «рухнувших», благодаря электронизации ценах, даже говорить не хочется. Имеется ввиду небывалая экономия, достигнутая благодаря электронным аукционам. Увы, как водится, здесь происходит подмена понятий. Еще со времен ФЗ-94 термин «экономия» полностью подменил собой термин «эффективность», о котором говорит законодательство. Как и прежде, при оценке итогов осуществленных закупок продолжает рассматриваться только размер экономии бюджетных средств, рассчитываемый как разница между начальной (максимальной) ценой контракта и ценой, по которой была произведена закупка. А это может свидетельствовать только о полной несостоятельности системы планирования, ведь никто не назовет человека, берущего с собой тысячу и купившего «за пятак» эффективным закупщиком. Но увы, слово «экономия» действует, как заклинание и идея «повальной электронизации» продолжает оставаться, едва ли не самой актуальной, порой заставляя вспомнить об Айвене Голдберге, американском психиатре, введшем термин Pathological Computer Use (патологическое использование компьютера). «Импортозамещение». Этот термин уже несколько лет на слуху у всех, но особенно часто он звучал в уходящем году. Начало года ознаменовалось выходом постановления об ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. К концу года разговоры крутились уже вокруг импортного продовольствия, а в начале декабря страну просто «взорвала» новость об очередном ограничении – лекарств. Российское правительство выпустило постановление об ограничениях и условиях допуска иностранных лекарств, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), закупаемых за счет государства. Постановлением установлено, что в случае подачи хотя бы двух предложений о поставке продукции из стран Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия) импортные препараты к закупкам не допускаются. И вот это-то постановление стало последней «соломинкой, сломавшей хребет» тем, кто до этого момента благосклонно относился к идее импортозамещения. И дело даже не в острейшем вопросе, «насколько отечественные лекарства аналогичны импортным», в конце концов, никто не собирается, в условиях отсутствия отечественных разработок, лишать нуждающихся «последнего шанса». Дело в побочном эффекте «медвежьей услуги», который окажет самое прямое действие на российских производителей. Почему «медвежьей»? А вот почему. Дело в том, что доля лекарств отечественного производства в объеме государственных и муниципальных закупок лекарств, относящихся к ЖНВЛП составляет всего 24,5%. То есть, даже если предположить, что российские производители представляют собой предприятия «полного цикла», они в состоянии обеспечить менее четверти от общей потребности. И такие ограничительные действия допустимы только при наличии собственного развитого, современного рынка, а не когда фармацевтический рынок, фактически находится лишь в стадии зарождения. Однако, по уверениям разработчиков постановления, такие действия должны привести к повышению конкурентоспособности российских препаратов и даже к снижению цен. Но никогда еще в истории человечества искусственное сокращение предложения, путем «оттеснения» лучших, не приводило к росту конкуренции. Во-первых, борьба за рынок двух и борьба за рынок ста – совершенно разные вещи. А во-вторых, только соревнование с лучшими стимулирует к развитию. Смогли бы мы сейчас наслаждаться фантастической борьбой в Национальной хоккейной лиге, не случись легендарной «Суперсерия-72», показавшей всем, что двум лучшим школам хоккея, оказывается есть куда развиваться. Данное же постановление позволяет «равняться» на середнячка, а о лидерах «позаботится» государство, закрыв для них многомиллиардный рынок. Какая выгода условному производителю N напрягаться, предлагать что-нибудь «инновационное», когда госзаказ ему просто «сваливается», по крайней мере, государство изо всех сил создает максимально комфортные условия участия в нем. Зачем повышать качество — существующее и так окажется лучшим среди «удовлетворительного», ведь «отличников» к состязанию не допустят. Из сказанного следует и несбыточность прогнозов о снижении цен. Не могут цены снизиться, поскольку тем иностранным предприятиям, которые решатся локализовать производство в России, потребуются огромные средства. И такие же — не меньшие — средства необходимы российским производителям, чтобы нарастить производство, закрывающее более 24,5% потребности. Да, конечно поддержка отечественных производителей в нынешней ситуации необходима, но не методами устранения конкурентов, а наоборот — путем повышения конкуренции, за счет создания стимулов «равняться на правый фланг». Еще одним знаковым событием является появление законопроекта о внесении изменений в Закон о контрактной системе в части оптимизации деятельности контрольных органов, в том числе путем перераспределения полномочий по контролю. Так завуалировано в пояснительной записке к законопроекту названа ликвидация системы контроля в сфере закупок на муниципальном уровне. Необходимость такой «реорганизации», по уверениям разработчиков законопроекта, обусловлена «недостаточной эффективностью реализации муниципальными контрольными органами в сфере закупок своих функций» (цитата). «Спасти ситуацию», по мнению разработчиков, сможет передача полномочий по контролю, осуществляемому в настоящее время органами местного самоуправления, соответствующим контрольным органам субъектов РФ. Но есть одна проблема - в России, до настоящего времени, не существует общепринятой системы оценки эффективности осуществляемого контроля в сфере закупок. Для реальной оценки эффективности системы контроля необходим систематический анализ многих составляющих, в соответствии с разработанным и закрепленным нормативом, описывающим действия при оценке, используемую информацию и пр. К сожалению, данное обстоятельство совершенно не было учтено разработчиками. Более того, тем же законопроектом только предлагается установить систему оценки эффективности осуществления контроля в сфере закупок. И лишь в неопределенном будущем планируется утверждение Правительством РФ соответствующих методик. Так как же можно, по сути, находясь посреди чистого поля и только начав задумываться об оценке эффективности, «на корню» уничтожать систему муниципального контроля, складывающуюся целое десятилетие, при этом еще и обвиняя последнюю в «неэффективности»? Увы, но данный законопроект умалчивает об этом. Это конечно далеко не все новости уходящего «закупочного» года. Кому-то в память врезались скандалы, а кому-то, наоборот – удачные проекты. Кто-то только вступил на «закупочный путь», кто-то перешел на новый уровень. Но хочу нам всем в наступающем году пожелать – чуть-чуть замедлить эту бешенную скачку и перейти, наконец, на размеренные, но твердые шаги на пути к выстраиванию цивилизованного и контролируемого процесса закупок в нашей стране. С Новым годом, дорогие коллеги! |