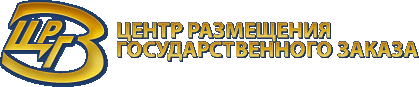СтатьиПятилетка за три года
«Закон, что дышло, хе-хе, – забубнил Ездаков, – куда повернул – туда и вышло. Законы пишут в канцеляриях. На бумаге все гладко, хорошо… Нет, ты попробуй-ка в тайге …» (В.Я. Шишков, «Угрюм-река»).
Скоро Закон № 44-ФЗ отметит третью годовщину. С одной стороны – возраст детский, с другой – этот срок был поистине магическим еще в недавнем нашем прошлом. «Пятилетка за три года!». Не многие вспомнят подробности, но этот лозунг знаком даже современным студентам. Увы, но за «ударную пятилетку» (трехгодичную) Закон № 44-ФЗ так не сумел избавиться от «детских болезней», таких как: противоречие юридических норм друг другу и гражданскому законодательству в целом, непроработанность некоторых процессов, не позволяющая осуществить их в полном объеме, размытость норм, регламентирующих контроль, мониторинг и аудит и пр. Наконец, просто грамматические, орфографические и речевые ошибки. Несмотря на огромное количество поправок, уже внесенных в Закон № 44-ФЗ за неполные три года, не то что «вылечиться» – даже «оздоровиться» не получилось. Что самое печальное, Закон № 44-ФЗ, к сожалению, не только «унаследовал» от своего предшественника «хронические заболевания», но и послужил катализатором для «наследования», мягко говоря, несерьезного отношения к незыблемым тысячелетиями постулатам права. Особенно это заметно в одном из ключевых направлений – контроле. Что являет собой настоящий контроль? Если выражать сущность контроля кратко, то контролировать – это следить за соблюдением закона и выявлять нарушения последнего. А незыблемым фундаментом для выполнения этих функций является строгое соответствие нормам и принципам права. Увы, но в России давно уже во многих отраслях право подменяют «понятиями». К сожалению, так случилось и сфере государственных закупок. И контролирующий орган (ФАС России), учась и совершенствуясь, тем не менее, не избежал «соблазна» попытаться построить систему контроля в соответствии со своими удобствами. Хороший закон или плохой – контролера это должно касаться в последнюю очередь. И если закон настолько плох, что не позволяет даже его стражам разобраться в нем, то один из основополагающих принципов права еще никто не отменял – любые неустранимые сомнения трактуются в пользу обвиняемого. Во времена действия Закона № 94-ФЗ ФАС России регулярно «радовала» закупочное сообщество выпуском разъяснений, при этом не только не имея на это ни малейших полномочий, но и действуя вразрез с принципами организации органов власти. К концу действия Закона № 44-ФЗ ФАС России немного поостыла и разъяснения превратились в «позицию», что, впрочем, не уменьшило абсурдности происходящего. Не может быть у контролирующего органа позиции! По определению, не может! Пусть закон и ущербный. Например, один из ярчайших примеров своей ущербности Закон № 44-ФЗ демонстрирует в нормах, регулирующих участие в закупках субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП и СОНО). Мало того, что эти нормы, даже при искреннем желании многих заказчиков, исполнить проблематично, но они еще и висят над заказчиками «дамокловым мечом». И во втором случае, дело уже даже не в недостатках закона, а в контролерах. Предыстория такова. Как известно, Закон № 44-ФЗ, в развитие политики государства, отдельно оговаривает условия участия в закупках СМП и СОНО, предоставляя им весьма ощутимые преимущества по отношению к остальным участникам рынка. А проще говоря, ограждает (ограничивает) от последних закупки, специально организованные для СМП и СОНО. Но Закон № 44-ФЗ постоянно то ли подменяет понятия «преимущество» и «ограничение», то ли, что разумнее, не делает между ними существенной разницы. Согласно ст. 27 Закона № 44-ФЗ, при осуществлении закупок СМП и СОНО предоставляются преимущества в соответствии со статьями 28 - 30. Тогда как в ст. 30 Закона № 44-ФЗ уже звучит слово «ограничение» («в извещениях об осуществлении закупок устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации»). И Закон № 44-ФЗ не интересуют ни сфера деятельности заказчика, ни особенности его закупочной системы, ни другие субъективные факторы. Что, в общем-то, правильно. Dura lex, sed lex (суров закон, но это закон (лат.)). Но когда мудрый латинский принцип начинают разбавлять русским «закон, что дышло …», закон оказывается подмененным «понятиями». И вот где «Hund begraben» (собака зарыта): В ч. 2 ст. 27 Закон № 44-ФЗ говорит об обязанности заказчика, в случае принятия решения об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), указать в извещении об осуществлении закупки информацию о таком ограничении с обоснованием его причин. То же самое Закон № 44-ФЗ повторяет и в ст. 42 («в извещении должна содержаться информация об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)»). Но в нормах, относящихся уже непосредственно к способам закупок, опять начинается путаница с «преимуществами» и «ограничениями». Например, в извещении о проведении открытого конкурса заказчик обязан указать информацию, предусмотренную ст. 42, и, уже отдельно, указать преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28-30 Закона № 44-ФЗ. То же самое условие содержится и в ст. 63, говорящей об извещении об открытом аукционе. Так что же заказчик должен указать в отношении СМП и СОНО? «Преимущества» или «ограничения»? Или и то, и то, превратив извещение в «масляное масло»? Вот как считал один контролирующий орган, а точнее, одно из его крупнейших территориальных управлений. Некий заказчик объявил открытый конкурс. В извещении об осуществлении закупки, в полном соответствии с требованиями ст. 49 Закона № 44-ФЗ, содержался абзац: «Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям: - участниками открытого конкурса могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации». В конкурсной документации также содержалось прямое указание на то, что участниками открытого конкурса могут быть только СМП и СОНО. Более того, заказчик специально указал, что «преимущества при участии в закупке указанным субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям устанавливаются в отношении ограничения на участие в настоящем конкурсе иных хозяйствующих субъектов - участников гражданского оборота». Пусть фраза и звучит не очень красиво, но ее наличие однозначно свидетельствует о намерении заказчика «сгладить шерховатость» этих норм. Также, в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, заказчик в документации не только установил требование к декларации о принадлежности участника открытого конкурса к СМП или СОНО, но и предусмотрел такой раздел в форме заявке на участие в конкурсе. В ходе процедуры рассмотрения конкурсных заявок комиссия не обнаружила в одной из них требуемой декларации о принадлежности к СМП или СОНО и, разумеется, отклонила эту заявку. Поскольку заявок было подано всего две, конкурс был признан несостоявшимся и заказчик направил обращение в контролирующий орган о согласовании закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Однако заказчику было отказано в согласовании. И вот как контролер мотивировал свой отказ: «Извещение о проведении конкурса содержит указание на преимущество для СМП и СОНО, без ограничения количества участников закупки исключительно для СМП и СОНО». «Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске участнику N, по основанию, изложенному в протоколе рассмотрения и оценки, неправомерно и принято в нарушение ч. 3 ст. 53 Закона № 44-ФЗ, поскольку из требований извещения следует, что ограничение количества участников закупки, которыми могут быть только СМП и СОНО, не установлено, в связи с чем представление декларации о принадлежности к СМП и СОНО, необязательно» (извлечение). Очевидно, что в данном случае, территориальное управление пренебрегло как нормами закона, так и принципами права. Во-первых, контролер несколько лукавил, говоря о требованиях извещения. Это было лишь «полуправдой», поскольку в качестве доказательства использовался исключительно «скрин» с официального сайта. Прикрепленный же файл в формате word во внимание не принимался. Да, никто не спорит, что информационное обеспечение контрактной системы имеет важное значение, но ключевое слово здесь – «обеспечение». То есть официальный сайт, а теперь единая информационная система несут лишь вспомогательную функцию, призванную помочь в реализации таких принципов закупок, как прозрачность, равноправие и пр. И данную точку зрения полностью поддержал суд, в который, в поисках справедливости, обратился заказчик. В обоснование заявленных требований он прямо указал, что выводы контролирующего органа не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Контролирующий орган исходил только из того, что электронной версией извещения не установлены описываемые выше ограничения, следовательно и применять их заказчик не вправе. Однако суд однозначно сказал, что данные выводы контролера не соответствуют ни норме права, ни конкурсной документации. Из материалов дела очевидно следовало, что заказчик предельно добросовестно отнесся к своим обязанностям, и не его вина, что «вспомогательная» функция официального сайта, также умудряющегося «толковать» Закон № 44-ФЗ посредством недоработанного интерфейса, оказалась, в данном случае, скорее вредительской, благодаря «стараниям» разработчиков. Но главное то, что суд напомнил – закон не регулирует и не может регулировать вспомогательные функции «обеспечивающих» механизмов, они существуют «в помощь». Максимум, что позволяется в праве – это подзаконными актами конкретизировать положения того или иного закона с целью облегчения их применения с учетом специфики различных слоев населения, территориальных особенностей и индивидуальных интересов. Обязательными признаками подзаконных актов являются, во-первых, содержание в себе только тех норм, которые уже закреплены в законах. Новые нормы подзаконные акты вводить не могут. А во-вторых, обладание меньшей юридической силой, чем закон. Проще говоря, если нормы, содержащиеся в подзаконном акте, противоречат нормам закона, то применяется закон. Таким образом, ни один подзаконный акт не может вторгаться в сферу законодательного регулирования. Иначе он должен быть приведен в соответствие с законом или отменен. И никто не вправе обвинять какого-либо субъекта в нарушении норм подзаконного акта, который сам не соответствует закону. А уж, тем более, контролирующий орган был не вправе руководствоваться, иначе не назовешь, «инструкцией по эксплуатации» официального сайта. На это и указал судья в своем постановлении: «То обстоятельство, что в электронной форме извещения, распечатка которой представлена антимонопольным органом, не заполнена соответствующая графа, определяющая имеющиеся ограничения, о законности оспариваемого решения не свидетельствует, поскольку заполнение указанной формы действующим законодательством не регламентировано … На основании изложенного суд решил: - признать незаконным полностью решение контролирующего органа «об отказе в согласовании осуществления закупки у единственного поставщика; - обязать контролирующий орган в 10-дневный срок с даты вступления решения в законную силу устранить нарушение прав и законных интересов заказчика» (извлечение). Немаловажно в этой истории и то, что контролер напрочь позабыл или демонстративно проигнорировал существование такой науки, как юриспруденция. А она наука точная и базируется на основополагающих принципах, независимо от области права. И стоило контролеру, как минимум, учитывать эти принципы, результат был бы иной. На что, собственно говоря, и указал судья. Справедливости ради, надо сказать, что добрая половина контролеров в подобном случае этими самыми принципами руководствуется. Ведь «ларчик открывался просто». Сам термин «преимущество» – это как «выгода», «превосходство» в сравнении с кем-нибудь или чем-нибудь другим, так и предоставление исключительного права на что-нибудь (например, «преимущественное право» в наследственном праве). Таким образом, исходя из принципа совокупности правовых норм (предписаний), а также принципа единообразия толкования, которые должен был знать и учитывать контролер, в контексте ст. 28-30 Закона № 44-ФЗ термин «ограничение» является тождественным термину «преимущество». Описываемый случай продемонстрировал наглядно – если бы контролеры с самого начала следовали принципам права, и подошли к своим обязанностям в соответствии с самой сущностью контроля, закон был бы суров, но справедлив. Но, увы, некоторые контролеры не знакомы с принципами права, и выражают свою «позицию» так, как им видится в данный момент. |