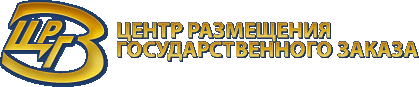СтатьиКонтрактная система. Станет ли она зеркалом Федерального закона № 94-ФЗ?
«Я думаю, наш закон, вступивший в силу с начала этого года, будут копировать впоследствии и на Западе, и на Востоке» (цитата). Про Федеральный закон № 94-ФЗ уже написано, переписано столько всего … . В сам закон было внесено рекордное количество поправок. Критика звучала со всех сторон – от законодателей, от заказчиков всех уровней и всех отраслей, от правоохранительных органов, наконец, от добросовестных поставщиков. Не спорю, часть критических стрел была выпущена, что называется «ниже колен», но, в основном, критика была вполне обоснована. Как закономерный итог – закон скончался, причем, не приходя в сознание с рождения. Но свято место пусто не бывает, на смену 94-му пришел Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (по уже сложившейся привычке, его называют просто «Закон о ФКС»). Что говорить, впечатление от прочтения нового варианта закона неоднозначное, а скорее - тяжелое. Очевидно, что он являет собой результат компромисса заинтересованных сторон. Во-первых, наиболее ярко «рука» ФАС ощущается в статье про антидемпинговые меры. И неважно, что такого термина вообще нет в российском законодательстве, а даже, если бы и был, то ФАС это касаться не должно. Их дело - низкие или высокие цены, но … установленные, занимающими доминирующее положение хозяйствующими субъектами. Далее. Давняя мечта ФАС о централизации начинает сбываться, ведь централизовать все и вся хотели на протяжении всего периода действия 94-ФЗ. Действительно, примеров централизованной системы размещения государственных заказов достаточно. В ряде субъектов Российской Федерации органы исполнительной власти определили практически централизованную систему размещения заказов, когда государственные заказчики ограничены подачей заявок на размещение заказов, а организацию и проведение конкурсов и аукционов осуществляет уполномоченный орган (например: Ставропольский край, Свердловская область). А вот при глубоком анализе системы закупок в Ханты-Мансийском автономном округе в рамках административной реформы, ведущими специалистами в области государственных закупок данному региону была рекомендована смешанная система государственных закупок. Но нельзя же вот так огульно, без серьезного анализа и исследований административной системы субъекта вводить это. Ведь в состав Российской Федерации на текущий момент входит 83 равноправных субъекта РФ, в их числе 21 республика, 9 краёв, 46 областей, 2 города федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округа. И на выбор той или иной модели системы размещения заказов влияют такие факторы как географический, административный, экономический. Где-то предложенные методы применимы, а где-то нет. Оставьте наконец в покое сельские школы, больницы! Им вообще не нужна эта система! Оговорите для них порог бюджета, на который не будет распространяться действие закона, но одновременно наладьте в отношении них вменяемый контроль и, уверяю, проблем станет гораздо меньше. Но нет, «не положено». Достаточно вспомнить «легенду», когда одно силовое ведомство вдруг захотело централизованно закупить для всех частей банки тушенки. И сразу же столкнулось с кучей неразрешимых проблем. Частей великое множество, ни один поставщик не в состоянии осуществить довольно оперативную доставку в тысячи адресов по всей стране. Ладно, закупим сами, а потом развезем … ан нет, где мы будем хранить все это, поскольку количество товара — огромнейшее! В итоге ведомству пришлось отказаться от этой затеи. Или, наоборот, всероссийский скандал в 2010 году с покупкой томографов, когда ценовой разброс по регионам за единицу одной и той же продукции составлял около 30 миллионов рублей! Впоследствии это привело даже к возбуждению уголовных дел. Не будем сейчас вдаваться в подробности откуда взялись такие цены, но данная закупка может служить примером, когда ее, наверное, можно было бы осуществить Минздравом централизованно. Но почему же Федеральная антимонопольная служба так ратует именно за централизованную систему закупок? По словам ФАС, это приведет к сокращению количества «непрофильных» функций у сотрудников заказчиков, повысит качество работы бюджетного сектора. Только вот незадача ... у нас в стране не проводилось ни одного исследования по данному вопросу. Ни один из ведущих специалистов в области госзаказа не был привлечен к изучению данной проблемы, но если бы ее и изучали, это заняло бы весьма длительное время. Должен быть создан аналитический центр из высококлассных специалистов, который смог бы собрать, а потом проанализировать данные, полученные в субъектах РФ и, наконец, дать заключение по каждому конкретному субъекту! Только вот наши высокопоставленные «закупщики» даже не задумываются о всей глубине поднятой ими проблемы, у них все слишком просто - «отнять и поделить»! Что ж, тогда, боюсь, получится «как всегда». Расширяется ведомственный контроль. В частности, возвращается контроль казначейству, что правильно. Но теперь, как никогда становятся необходимы методики контроля. За время действия 94-го закона так и не были выработаны единые подходы при проверках, принятии решений, выдаче предписаний. Отсутствуют унифицированные классификаторы нарушений. Диаметрально противоположные решения выносятся не только в рамках работы различных контролирующих органов, но и территориальных подразделений одного органа. Но главное - необходимо создание единой методологии при самих процедурах осуществления контроля. Отсутствие установленных методик не позволяет провести комплексный анализ нарушений законодательства, выявить сопутствующие нарушения и, в первую очередь, сами причины нарушений. Такие методические материалы и рекомендации, направленные на организацию и проведение контроля в сфере размещения заказов, позволят проводить контрольные мероприятия, подготавливать отчеты (акты), вырабатывать рекомендации по единым стандартам. Один из самых больших минусов - что средства, вносимые в качестве обеспечений все-таки оставили у площадок. На сегодняшний день там аккумулируется около 600 млрд.руб., которые размещаются в материнских банках и которые приносят этим банкам серьезный доход. А по сути, это бессовестное зарабатывание на воздухе. Эти деньги ничем не обеспечены, они не вкладываются в долгосрочные программы. Ни один карандаш не производится в обеспечение этой виртуально-бумажной массы. Как будто у нас без этого инфляция маленькая и поставлена задача ее накручивать. Но банки свои интересы отстояли и вместе с дочками-площадками потирают руки. В общем, случилось то, о чем предостерегали специалисты – «Закон о ФКС» и 94-ФЗ срослись, и 94-й его подавил. Очевидно, что в новый закон будут вноситься поправки, как системные, так и просто технические. Все помнят, как первые поправки в 94-й были внесены еще до вступления последнего в силу. Другое дело, что те, впрочем, как и последующие не могли реанимировать мертворожденного (94-ФЗ). Хочется надеяться, что те уроки были усвоены. Итак, на что же необходимо обратить внимание при дальнейшей работе над ФКС, дабы избежать повторных грабель. Федеральный закон № 94-ФЗ, при его на первый взгляд весьма строгих формулировках, имел немало финансовых дыр для утечки бюджета, коррупционных возможностей для ловчил, да и просто организационных несуразиц. Эксперты называют четыре основные проблемы с законом. Во-первых, он не решил порочную практику «откатов» и взяток. Во-вторых, его экономическая целесообразность, основанная на победе заявки с наименьшей ценой, весьма сомнительна, что, в свою очередь явилось причиной небывалой активизации недобросовестных поставщиков. В-третьих, этот закон недостаточно стимулирует внутреннее потребление и загрузку мощностей отечественных производителей. И наконец, в-четвёртых, он иногда зарегулирован до абсурда, и порой просто бессвязными нормами. Конечно, фразы звучат громко, по-журналистски, со штампами, но согласиться приходится со всеми пунктами, кроме третьего. Но давайте уж обо всем по порядку: Госзакупки по праву можно назвать одним из главных индикаторов уровня коррупции в стране, поскольку государство является крупнейшим игроком на рынке, ведь речь идет о расходовании колоссальной суммы, в 2013 году порядка 6 триллионов рублей. Одними из основных приоритетов данного закона были повышение прозрачности и эффективности государственных и муниципальных закупок, а так же снижение рисков коррупции и недобросовестности при выборе поставщиков. При разработке закона в него пытались заложить соответствующие нормы, однако в ходе принятия закона далеко не все из них удалось облечь в четкие и однозначные формулировки статей. Кроме того, при дальнейшей работе над ним ряд требований модифицировались, появлялись новые правила и процедуры размещения государственного и муниципального заказа. Но критика не только не утихала, а, наоборот, становилась все громче. Конечно, всегда была и есть твердая хвалебная линия – как прекрасен он, как благодаря ему сэкономлено куча денег и какое еще большее «счастье» нас ждет впереди. «Это надо преодолеть. Новым правилам нужно научиться. А потом - светлое будущее» (цитата). Однако, однако … Да, перед 94-ФЗ стояла цель уменьшить коррупцию в госзакупках, но что же мы видим? Цифры, связанные с уровнем коррупции, называемые независимыми источниками до принятия этого закона намного меньше, нежели нынешние публикующиеся цифры. В конце 2010 года начальник контрольного управления администрации президента Константин Чуйченко потряс президента информацией, что в системе госзакупок воруется, по самым скромным расчетам, 1 трлн руб. В пересчете на доходы бюджета 2010 г. (7,9 трлн) это восьмая часть. «Что это означает, если выражаться простым русским языком? — спросил президент и сам ответил: — Объем воровства можно снизить на триллион рублей». Напомню, Михаил Фрадков, будучи премьер-министром, говорил о 10% отката. То есть, за годы действия 94-ФЗ объем коррупции вырос вдвое!? И это результат «прогрессивного» 94-го? Закона, после принятия которого «зарубежные коллеги с завистью изучают наши новации»? Не знаю, как вам, а мне такое «достижение» кажется сомнительным. Задаешься вопросом, насколько эффективен закон и как государство, принимающее его, вообще хотело (скажем мягче - насколько могло) контролировать его исполнение. И чем же в итоге занимаются уполномоченные органы, в обязанности которых входит контроль и разработка методов борьбы с коррупцией, учитывая, что они получают заработную плату ежемесячно? Государство выделяет огромные деньги на эту борьбу, а в итоге не получает ничего. В СМИ периодически появляются интервью, в которых чиновники рассказывают о коррупции, приводят цифры, но, если государство способно подсчитать это, почему оно не может эффективно бороться с этим явлением, подрывающим экономику и сами устои общества? Следственный комитет говорит о 7 млдр. рублей ущерба от преступлений в сфере госзакупок в 2011 году. Счетная палата за тот же период выявила нарушений на 238,5 миллиарда. Повторю, начальник контрольного управления администрации президента Константин Чуйченко говорил об 1 трлн руб. Возникает вопрос - откуда у них эти цифры, и вообще, как возможно это подсчитать? Но если все-таки посчитали, значит известно, кто и как это сделал? Тогда где ответы? Наверное, в этой фразе: «Не знаю, насколько снизилась коррупция, но сильно повысилась квалификация коррупционеров» (цитата). Так как же государство может бороться с коррупцией в целом, если даже внутри себя оно не может это искоренить!? Но, разве только в процедурах размещения заказов кроется эта самая «неуловимая» коррупция? Взятки, откаты … О нет! Основной пласт скрыт, как раз, в стадиях планирования (если ее вообще можно так назвать) и исполнения контрактов. Все эти вопросы, поднявшиеся наконец до первых лиц государства, дали толчок к очередному витку в деле реформирования системы госзаказа. Но где же кроются проблемы? Увидит ли их новый закон? То, что выбрали «своего» - это меньше, чем полбеды. Дело в том, что очень многие поставщики выбираются не только «по любви», но и «в охотку». С такими поставщиками сложились давние, очень тесные коррупционные отношения. Это и поставка продукции более низкого качества по цене оригинальной, и вымышленные работы и, наконец, просто «липовые» поставки. Как это, спросите вы? А очень просто. Почему до сих пор чувствуют себя уютно всякие недобросовестные поставщики расходных материалов? Внешне с ними борются, отстраняют от торгов, включают в реестр недобросовестных поставщиков, судятся. Но дело в том, что они все равно нужны коррумпированному заказчику. Опосредованно. Схема следующая: «свой» поставщик выигрывает торги с вполне пристойной, оригинальной продукцией. Но расходные материалы потому и называются расходными, что расходятся быстро и, что самое главное – не учитываются должным образом и, соответственно не списываются в порядке, предусмотренном, например, для автотранспортных средств, компьютерной техники. Заказчик прекрасно понимает, что та же прокуратура может проверить наличие на складах станков, но никак не картриджей или карандашей. И заказчик договаривается со «своим» поставщиком, победившим в торгах: «Ты мне привези немножко дорогих оригинальных картриджей для начальства, а остальное – то, что подешевле. А оформим их, как оригинальные». А где такому поставщику взять эту «некондицию»? Правильно, у тех, кто производство оной сделал своим бизнесом. Нечего и говорить, что выгода очевидна для всех сторон. Но это только одна из коррупционных схем. Весьма распространена ситуация, когда требуемый товар не поставляется вообще. Чаще всего это встречается с канцелярскими, хозяйственными товарами, с печатно-бланочной продукцией. Только представьте, какие объемы разыгрываются по этим направлениям. Как правило, десятки миллионов ежегодно. Конечно, сейчас я беру заказчиков федерального уровня, а не маленькие муниципальные больницы, сотрудники которых, зачастую, наоборот, вынуждены покупать все это даже за свои собственные деньги. И теперь представьте себе, что этой продукции, в реальности, поставляется 20-30% от заявленного объема? При контрактах в 50-70 миллионов – это «эльдорадо»! Причем, в той части, которая все же поставляется, заказчик, естественно, и не думает отказываться от своего обычного отката, который, за последний год изрядно подрос. Вполне жизненный пример: контракт на 25 миллионов, продукции поставляется на 5, остальное просто «обналичивается», плюс 30 % «отката» с продукции реальной. Получается почти 20 миллионов «чистой прибыли»! Конечно, закон здесь играет роль второстепенную. Главная проблема – в самой бюджетной системе. Но то, что 94-й закон всеми силами способствовал и способствует процветанию коррупции, сомнению не подлежит. Но, заметите вы, государство же покупает не только расходники и канцелярию. Да, конечно! Потому что при закупках работ и услуг положить себе в карман можно гораздо больше. Про дорожное строительство я даже упоминать не буду, кажется, нет другой такой отрасли, про катастрофическую коррупцию которой знали бы все, от механизатора до президента. Давайте здесь промолчим … Строительство уверено догоняет дорожную отрасль. Вспоминается реальная история про въедливого прокурора, который самолично явился на объект и, взяв в руки лом, принялся проверять наличие утеплителя в новом доме. Отковыряв облицовочные плиты он обнаружил и доски, и картонные коробки, и мешки из под цемента и прочий мусор, но только не утеплитель. А возмутительная история с объявленными в прошлом году в Москве торгами, с начальной ценой более 21 млн. руб. на снос обвалившихся в 2009 году строений на Садовнической набережной в Москве. Между тем работы по «расчистке площадки» уже проводились сразу после обрушения, летом 2009 года, – тогда территория, вскоре после обрушения, была расчищена до состояния практически ровной площадки. Очевидцы подтвердили: «Сносить там действительно уже нечего». Получается, торги проводились на отсутствующий объем работ. А истина, по всем признакам, проста, как все гениальное. В 2009 году с подрядчиком сноса не смогли расплатиться, поэтому город закрывал свои обязательства этим контрактом. Вот только вопрос – а стоила эта работа тогда столько, сколько собирались заплатить три года спустя? Сфера жилищно-коммунального хозяйства тоже недалеко ушла от своих «старших собратьев». Прошлой зимой СМИ заинтересовал вопрос – почему уборка снега в Москве в 8,3 раза дороже, чем в Калининграде. Опять же, все очень просто - потому что в Москве на эти цели заложено в восемь с лишним раз больше денег, значит, их надо потратить. Хорошо, что снега было много. А не было бы его? Наверное, тогда еще и снег дополнительно закупать пришлось бы в Подмосковье. Или, если учесть расширение Москвы, можно теперь до Калужской области убирать все леса. Деньги-то потратить надо. А есть снег или его нет – уже дело второе. Пример: утро, Москва, 3-я Хорошевская улица. Едут двое со скребками с интервалом метров 20. Первый отгребает снег от бордюра, второй сгребает обратно. Так почему уборка снега в Москве в 8,3 раза дороже, чем в Калининграде … ? Ни для кого не секрет, что миграционная политика большинству кажется, мягко говоря, несколько несовершенной. В Москве давно весь низовой (да порой и начальствующий) состав работников ЖКХ заполнен мигрантами из бывших советских республик. Вроде, если следовать законам экономики, есть все предпосылки для повышения качества услуг и снижения их стоимости … ан нет. Во-первых, уж не буду анализировать, в силу каких причин, но факт остается фактом – работники из мигрантов неважные. А тут еще и благоприятная коррупционно-криминальная ситуация. Ведь мигранту (а тем более незаконному) можно заплатить меньше, чем официальному местному работнику из соседнего двора. И уж тут для коррумпированных начальников открываются просто безграничные перспективы. Это и ежемесячные ремонты жилого фонда, когда, в лучшем случае, красятся перила в подъездах, прямо поверх предыдущих 15-ти слоев краски, и еженедельная покраска бордюров во дворах и, наконец, каждодневное бестолковое перемещение снега по всему двору, пока он не превратится в грязные весенние потоки. Да что там говорить, если у меня во дворе сейчас вовсю меняют бордюры. Те самые, которые осенью активно красили во все цвета радуги, а незадолго до покраски поменяли. Дошло до того, что недавно пресс-служба столичной прокуратуры сообщила о том, что при выполнении работ по ремонту здания Управления Федеральной службы судебных приставов подрядчик привлек к трудовой деятельности гражданин республик Узбекистан, Таджикистан, Украина, Туркменистан без соответствующих разрешений. По результатам проверки прокурор возбудил в отношении фирмы 84 дела! Отделом управления ФМС по Москве в Восточном административном округе ООО "СтройРемСтиль" привлечено к ответственности в виде штрафа на общую сумму 21 млн руб! Интересно, а как все «это» выглядело в государственном контракте? Сомневаюсь, что в нем была предусмотрена «зарплата» сотни незаконных мигрантов. А «мертвые души» в ДЕЗах? В ходе только одной проведенной проверки выяснилось, что в ДЕЗ Бирюлево-Западного трудоустроенными значатся 300 рабочих, а на деле их в десять раз меньше. Ответ прост - нелегалы. И, как одно из составляющих такой ситуации – несуществующие работы. Порой доходит до курьезов: в наряде за август был пункт «Уборка снега с наледью с крыши здания». Видимо, москвичи взяли пример с питерцев, у которых летом позапрошлого года тоже обнаружился снег. И такое повсюду. На дорогах меняют недавно уложенный асфальт; во дворах вырубают хорошие деревья, чтобы высадить (на бумаге) на их месте новые. Около подъездов срезают пандусы, чтобы установить их снова и прочее, и прочее и прочее … Но услуги для государственных нужд «распиливать» еще проще. Пример: обслуживание кондиционеров. Ну кто представит, что можно по девяносто раз в месяц вызывать инженера для диагностики? И знаете почему? Потому что кондиционер работает с повышенной шумностью. Излишне говорить, что кондиционер находится в полном порядке и, разумеется, никаких инженеров сотрудники, находящиеся в данном помещении в глаза не видели. Однако по актам приемки работ и инженеры целый день провозились, и еще половину содержимого кондиционера заменили и еще провели профилактику «до кучи». То же самое происходит в контрактах на ремонт и обслуживание средств вычислительной техники, активного сетевого оборудования, автотранспортных средств и многого другого. Как итог, оплаченные из бюджета, но не выполненные в реальности работы приносят доход в карман чиновника, за вычетом процентов за «обналичку» и небольших премиальных поставщику. Конечно, 94-й закон, в мечтах разработчиков, должен был создать, какие-никакие препятствия закостенелым коррупционерам, сузить возможности выбрать на торгах «своего» поставщика и т.п., но спросим себя откровенно – все ли добросовестные поставщики, честно выигравшие торги, откажутся впоследствии от извлечения дополнительной прибыли (разумеется, совместно с чиновником), одновременно со снижением своих производственных затрат? Увы! К сожалению, пока в моем подъезде, в течение рабочего дня не будет находиться прокурор, все претензии на добросовестное проведение ремонта будут восприниматься, как шутка. Пока при подаче бюджетной заявки, руководитель территориального органа власти не будет доказывать необходимость покупки Toyota Land Cruiser, да еще и с массажным креслом, как минимум, перед вышестоящим руководством, а тот отчитываться перед налогоплательщиками, все негодования «возмущенной общественности» - это не более, чем временные неудобства. Пока государство не в состоянии проверить реальность (а главное – необходимость) приобретения ручки или официального бланка ведомства, все слова о планировании бюджетных расходов – не больше, чем «пшик». Конечно, закон о контрактной системе делает попытки навести порядок в планировании, но говорить об эффективности предлагаемых мер, преждевременно. «Ни в одном иностранном законодательстве не предполагается такой прозрачности при проведении государственных закупок, как у нас» (цитата). Перейдем ко второму пункту. Начальная цена, аукцион, экономия … . Вот они, три огромные (но не единственные) беды российской системы госзаказа. Цена. Зачем она нужна? Она противоречит самой природе торгов. Ведь главное, что отличает способ заключения договора на торгах от других способов – неизвестность одного из существенных условий договора – цены. Конечно, до поры до времени. В этом вся и «прелесть» такого вида договора. Но, тем не менее, одна «цена» у нас присутствует в обязательном порядке – начальная цена. Начальная (максимальная) цена контракта проходит лейтмотивом через весь Федеральный закон № 94-ФЗ. Да, конечно, термин «начальная цена» присутствует в Гражданском кодексе Российской Федерации. Часть 2 статьи 448 устанавливает, что извещение о проведении торгов должно содержать, помимо ряда других сведений, сведения о начальной цене. Но Гражданский кодекс был принят в 1994 году, когда об «аукционах» для государственных и муниципальных нужд, не то что бы не догадывались, но и даже предположить о таком способе размещения заказов не могли. Ни для кого из юристов не секрет, что гражданский кодекс регулируя проведение аукционов, имеет ввиду совсем другие аукционы, как минимум, залоговые (государственного имущества), а как максимум – реализацию имущества обанкротившихся предприятий. Начальная цена показывает границу, на которую можно ориентироваться поставщику. Отдаленно, и одновременно очень близко, это напоминает торговлю во всем нам знакомом Египте. Выглядит это примерно так: «А сколько у тебя есть денег?». «100 фунтов». «А, ну тогда это стоит 98». Это при том, что «красная цена» такому товару – 2 фунта. А уж когда Вы приходите на стоянку такси, где все таксисты, разумеется, знают друг друга, то только по «большому радушию» Вы получите сумму в 95 фунтов. Любые торги в Египте – это искусство продать за более выгодную цену. И не только в Египте. Как иронизировали далекие: «Ценность вещи определяется не тем, сколько вы готовы за нее заплатить, и не тем, во сколько она обошлась производителю, а тем, сколько за нее дадут на аукционе» (Уильям Лайон Фелпс). А почему искусство? Учитывая то, как у нас превозносятся, хотя бы электронные аукционы, как всеми силами пытаются убедить, что главная преграда на пути абсолютной победы аукционов, в качестве единственно правильного способа размещения госзаказа во всей мировой истории торгов … как же ещё «это» назвать? А между тем, Германия, прошедшая две мировые войны (впрочем, как и Россия), пережившая невиданные (впрочем, как и США и Япония) рост и падение экономики, давшая России не только принцесс и императриц, но и русских Рихмана, Мейера, Брюллова, Блока, Даля …. отказалась от практики размещения госзаказа на аукционах еще в конце 19-го века. Всемирный банк, организация, созданная почти семьдесят лет назад и объединяющая, на настоящий момент, 184 страны, не додумалась до такого «гениального» решения, как массовые аукционы. И, к слову, не спешит следовать такому примеру. Но у России (и еще Казахстана) особенный путь – аукционный. А раз аукцион, тут уж законотворцы моментально вспомнили о Гражданском кодексе и ввели в закон начальную цену. Предмет: «Приобретение картофеля свежего продовольственного, заготовляемого и поставляемого ГОСТ 7176-85», Заказчик: «Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области», Начальная цена: 10 200 000,00, Снижение: 88,50%, Экономия: 9 027 000,00. Предмет: «Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств радиосвязи и сигнально-громкоговорящих устройств для служб и подразделений органов внутренних дел по Самарской области в соответствии с техническим заданием заказчика, в объемах указанных в документации об аукционе в электронной форме», Заказчик: «Главное управление организации торгов Самарской области», Начальная цена: 36 499,99, Снижение: 100%, Экономия: 36 499,99. Ерунда какая-то! Дальше – больше. Снижение начальной цены при закупке услуг по организации ярмарки выходного дня для префектуры Северо-Восточного административного округа г. Москвы достигло аж 100,5%! То есть поставщик еще и приплатил государству, вместо того чтобы заработать. Ведь это полнейший абсурд! Коммерческое предприятие изначально нацелено на получение прибыли. А не проще ли тогда вообще отказаться от проведения торгов? Ведь можно просто разместить объявление «А не хочет ли кто-нибудь заплатить, чтобы отремонтировать здание мэрии?». Насколько же нелепо будет выглядеть такое объявление. В дальнейшем можно будет вообще отказаться от регламентации закупок, за счет «жаждущих» пополнить «закрома Родины». Смешно? Смешно. Но зато как звучит - больше 100% сэкономили! Ведь контролирующие органы видят только один из показателей - это экономию бюджетных средств. Здесь необходимо отметить, что значительная экономия средств при размещении государственного и муниципального заказа косвенно свидетельствует и о недостатках в работе самого заказчика в части планирования, приводящих к избыточности выделения бюджетных средств. Одним из лейтмотивов нашей бюджетной системы является «Проси в три раза больше, получишь сколько нужно». Поэтому мы и получаем в итоге 100% «экономии». Однако отвлеклись. Как же это получается? Отвечу - как минимум в 3/4 случаев виновата «начальная цена». Хмм … причем тут начальная цена? Ведь техническое задание писал заказчик! Но, вот беда, эти два аспекта очень тесно переплетены в нынешней системе госзаказа. И, к сожалению, первый (начальная цена) тянет за собой на дно второй. Вот скажите, какая выгода, ну хотя бы, тому же «дважды автомобильному заводу» (АвтоВАЗ) напрягаться, чтобы предложить N-ому заказчику что-нибудь «инновационное», когда ему госзаказ если и не просто «сваливается», но, по крайней мере, государство изо всех сил создает максимально комфортные условия участия в госзаказе. Это и грозные окрики со стороны антимонопольных органов: «Эй, а ну-ка не смейте описывать в техническом задании «Мерседес»! Описывайте так, чтобы и «Лада» подходила!», и встряска со стороны правоохранительных органов: «Но-но, вы там перекупщиков не балуйте!», и «наезды» интернет-сообщества: «А с какой-то стати ГИБДД закупает «Мерседесы» для рядовых дежурств!? Зажрались! И в Жигулях посидят!». Посидят-то посидят, но вот интересно посмотреть, как гаишники на «Жигулях» будут тот же «Мерседес» пытаться догнать? Ну что ж, тогда и не смейте даже заикаться о подушках безопасности, ведь их не на всех моделях «АвтоВАЗа» устанавливают … и действительно, зачем нашему ведущему автозаводу «напрягаться», чтобы внедрить, хотя бы такую, уже давно неотъемлемую во всем цивилизованном мире опцию, как подушки безопасности. Заказ ему напишут (с «помощью» ФАС, правоохранительных органов, блогеров и т.п.), и останется ему только дать цену, не превышающую начальную. А это уже не так сложно, поскольку и цена-то не очень большая (только объемы) и господдержки уже направили немеренно (и еще направят). Так зачем я буду напрягаться и прельщать заказчика чем-то новым, если вполне подойдет автомобиль итальянского рода сорокалетней давности и доработанный в СССР. Спасибо, что еще не в Египте собранный! Фраза, уже набившая оскомину: «А заказчик сам виноват, пусть нормально пишет техническое задание, тогда и получит то, что хочет». Но, простите, с какой стати заказчик должен сам выдумывать техническое задание в той степени, в какой это подразумевает ФАС? Разве в этом цель налоговых органов, медицинских институтов, детских учреждений? Если бы правительство США давало Стиву Джобсу и его «Яблоку» техническое задание на разработку iPad, разве биография Джобса была бы сейчас бестселлером на книжном рынке? Нет, тогда уж героем должен быть какой-нибудь Джон Смит – специалист 15 разряда 8 подотдела 3 отдела …. и т.д. Я прихожу в магазин и зачитываю многостраничные требования к стулу. Даже если продавец и выслушает меня до конца (это не шутка, я видел описание мебельного комплекта, состоящего из стола и кресла, составленное на 3,5 страницах), мне трудно представить, что он пойдет подбирать мне товар по всем параметрам. Я думаю, он просто задаст несколько вопросов (Где сидеть? Как сидеть? Почему сидеть? Есть ли у Вас пожелания к цвету?) и предложит мне на выбор несколько вариантов. И из них я уже выберу то, что наиболее подходит под мое понимание как «сидеть удобно». Разумно? По-моему, весьма. Начальная цена появилась в закупочном законодательстве России в 2005 году, с принятием 94-го закона. Ни в Федеральном законе № 97-ФЗ, ни в Положении, утвержденным указом Президента РФ № 305, ни в более раннем Федеральном законе № 60-ФЗ на начальную цену не было и намека. Уж не будем анализировать, что побуждало разработчиков 94-го вдруг «вспомнить» о Гражданском кодексе, но в правовой герменевтике они были не сильны. Видимо поэтому, в очередной раз, произошла подмена права понятием и к термину «начальная цена» в скобках прибавили “максимальная”. Мол, теперь это не «та» цена, и «начало» можно теперь отсчитывать от «конца» (максимальная). Бедная, бедная наука юриспруденция … Вот и в новорожденном законе «О контрактной системе» начальную цену не только сохранили, но и повысили ее статус, отдельно посвятив ей уже ряд статей. А ведь нынешних законотворцев от ошибки, как минимум, чрезвычайного увлечения декларированием начальной цены предостерегал еще в середине 19-го века великий русский цивилист Дмитрий Иванович Мейер: «Нет надобности обозначать и цену договора – определение ее может быть предоставлено самим торгующимся, но необходимо предварительно оговорить другие условия договора, например, относительно количества и качества предметов, срока поставки или подряда и т.п.». Но, даже в случае, когда заказчик (казна) решает установить такую «начальную» цену, то эту цену, ни в коем случае не следует выставлять на всеобщее обозрение: «Тогда информация о желании казны заключить договор публикуется по всему государству, и капиталисты приглашаются выставить свои условия посредством запечатанных объявлений. В то же время и казна назначает цену, и пока также скрывает ее в запечатанном конверте. В определенное время, в названный день и час, когда прием запечатанных объявлений при известных церемониях объявляется прекратившимся, полученные объявления вскрываются, и предприятие остается за тем лицом, которое предложило низшую цену, если эта цена не выше определенной казенным управлением и значащейся в особом, запечатанном конверте. Если же и низшая цена неудовлетворительна, то торг считается несостоявшимся». Но те давние российские цивилисты позаботились и о равноправии участников былых торгов, однако при этом соблюдая интересы и покупателя (государства, казны) следующим образом: «Только в последнем случае, т.е. когда все предложенные цены неудовлетворительны, цена, назначенная казной, объявилась явившимся ко времени вскрытия запечатанных объявлений, тогда как если низшая из предложенных цен выгодна для казны, пакет, в котором значится казенная цена, немедленно по вскрытию подлежит уничтожению. Это объясняется тем, что в первом случае законодательство имеет ввиду устранить сомнение в произволе тех лиц, которые представляют казну; во втором же, когда условия, предложенные торгующимися, быть может, значительно превосходят расчеты и надежды казны, в ее интересах не обнаруживать этого, ввиду заключения в будущем подобных договоров». Разве ничего это описание «Положения о казенных подрядах и поставках» 19-го века не напоминает сегодняшним закупщикам? Конечно! Это современная практика следующего оборота: «Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку, не удовлетворяющую его по ценовому предложению». В российских госзакупках эта фраза обычно дополнялась: «превышающую лимиты финансирования». Да, не все вспомнят сейчас времена Федерального закона № 97-ФЗ и Указа Президента Российской Федерации от № 305, а ведь как раз эта фраза была вполне привычной в тех конкурсных документациях. Так почему же мы так ухватились за эти самые начальные цены. Ну нет от них пользы никакой! Зачем мы даём этот потолок поставщикам? Ведь у нас начальные цены сразу задают ценовой ориентир — если компании могут поставить товар за рубль, но начальная цена 10, то меньше чем за 7 руб. желание работать отпадает. Но самое главное – на практике-то начальные цены устанавливаются, в первую очередь, просто исходя из лимитов бюджетного финансирования. А уж как у нас они формируются - известно всем, «Проси в три раза больше, получишь сколько нужно». Но главное, это "сколько нужно" надо потратить «кровь из носу». Потратить-то надо все! Нет для чиновника страшнее зверя, чем непотраченные средства. Но увы, продолжаем «про Ерему» (прим. «Про Фому и про Ерему»). И вот так начальная цена стала краеугольным камнем в спорах о путях «решения» проблем государственных закупок. Во всем стала виновата необоснованная начальная цена. Внесем поправки, заставим обосновывать её! Мало? Выпустим постановление об определении оной для медицинских изделий! Ах мало? Ну что ж, «поработаем» лет …дцать и наштампуем несколько десятков, сотен, тысяч таких постановлений по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг! Вас все никак не утраивает … ? Установим единые для всех правила определения оной. И неважно, что они, мягко говоря, туманны. Ничего не помогает … Что же делать? А делать-то может ничего и не надо? Может не надо иметь столько идей, как в известном анекдоте? Может дело-то в самой «начальной цене»? Вполне возможно, ответ, сам того не ведая, дал в прошлом веке Андре Моруа: «Нам все равно, сколько что стоит, до тех пор, пока оно ничего нам не стоит». Но, увы, в новом законе статус «начальной цены» не только сохранился, но и усилился. «Сегодня по этим параметрам госзакупок мы обошли и Соединенные Штаты, и Европейский союз» (цитата). Аукцион ... Вот уж, поистине, «злой гений». Аукцион не имеет под собой никакой иной цели, как извлечение максимальной выгоды (ценовой). Или в виде чистой прибыли, при продаже, или в виде экономии при покупке. Но не более того. А ведь экономия (как бы она ни была нужна) всего лишь одна из составных частей эффективности, причем не главная. За семь лет действия 94-ФЗ, по данным Федеральной антимонопольной службы при проведении закупок удалось сэкономить почти 1,5 триллиона рублей. Ура! Мы добились невиданной экономии бюджетных средств! Как я уже упоминал, у нас появилась экономия даже более 100%! За счет чего же эта экономия достигается? В очень большой части – за счет нехватки (непоставок) лекарственных средств в больницах и поликлиниках, за счет срыва дорожного строительства (кольцевая автомобильная дорога в Санкт-Петербурге), за счет 24-х детских садов, брошенных подрядчиками, выигравшими торги со снижением цены на 40-50% и прочее, и прочее, и прочее … Но постойте! Открываем закон и в первой статье видим, что одной из его целей является эффективное использование средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования. Почему же нам выдают цифры лишь по одной маленькой составляющей эффективности – экономии? Может, скрывают что-то? Или цифры не так радостны? Нет, всё в порядке. Только все это в порядке на бумаге. И в результате, как многое в нашей стране получается наоборот – «торговали – веселились, подсчитали - прослезились», только наоборот, а потом еще раз «плачем» при взгляде на результаты закупок. Кроме того, формулировки закона оставили достаточно условий для сговора и претендентов, и чиновников. Более того, давно все увидели, что борясь с коррупцией, ФЗ-94 сам породил новый вид коррупции и недобросовестной конкуренции, которую «пестуют» фирмы-пустышки, за которыми нет ни производственных мощностей, ни финансов, ни репутации и безболезненно «роняющие» цены на торгах. И появляются эти бравые отчеты о небывалой экономии – 30, 50, 90 %. Даешь конкуренцию! Но эта «конкуренция» идет сугубо по цене - без реального учета качества товаров. В результате экономия, полученная в ходе торгов, полностью нивелируется потерями от крайне некачественных поставок. Конечно, можно возразить, что закон о контрактной системе осторожно декларирует, что в качестве основного способа закупок, применяется открытый конкурс, да и кроме того, он существенно расширил перечень способов закупок, но, во-первых, он же и ограничил случаи их применения, а во-вторых, многое будет зависеть от правительственного (и расширенных региональных) аукционного перечня. При условии соблюдения такого же подхода, как и при 94-м, все нововведения в части расширения процедур и ориентированности на конкурсы, окажутся «мертворожденными». Звучит и упрек, что закон недостаточно стимулирует внутреннее потребление и загрузку мощностей отечественных производителей. Вот уж не поверю. В законе существует целая статья, посвященная национальному режиму в отношении товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами. Доступ иностранных компаний ко многим сферам госзаказа затруднен, поскольку регулируется отдельными решениями правительства. И сейчас участие иностранных компаний в госзаказе весьма незначительно - на самой крупной электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» зарегистрированы только 29 иностранных поставщиков. Всего с конца 2009 года заявки на участие в аукционах подавали 211 иностранных компаний, со 117 подписаны контракты, при том, что сейчас на площадке проводятся несколько тысяч аукционов. И это называется недостаточными мерами для поддержки отечественного? Дело совсем в другом – отечественные производители, как это не печально, просто не в состоянии конкурировать с иностранцами. Ну в самом деле, никто же не будет на полном серьезе сравнивать «достижения» истинного российского автопрома с «забугорным». Хотя, по словам чиновников, они по возможности стараются покупать отечественные машины - в том смысле, что Ford и BMW выпускаются в России. Я, как-то, заявил немцу, что BMW это российская машина. Он, после долгих раздумий искренне спросил: «Это ваша национальная шутка 1945 года?». И как мне объяснить ему или тому же японцу, что раз TOYOTA сходит с конвейера в России, значит, по официальным документам, она является продуктом российским. Конечно, Россия наконец-то вступила в ВТО, а там соглашение по правительственным закупкам (GPA, Agreement on Government Procurement) предполагает отсутствие дискриминации и прозрачность сделок. Подписавшие соглашение страны обязуются обеспечить равные условия допуска к госзаказу товаров и услуг поставщиков других стран-участниц. Существующую систему преференций для отечественного поставщика в рамках госзакупок, как и механизм признания "отечественными" производителей дружественных государств постсоветского пространства, придется заменить равным доступом на рынок всех участников соглашения. Впрочем, Россия пока не предпринимает активных шагов навстречу этому соглашению, да и отказаться от национального режима мы не готовы даже в страшном сне. С огромной осторожностью чиновники говорят о 5-7-летнем процессе. Что, за это время отечественная продукция окажется в состоянии конкурировать с иностранной? «Жигули» с «Mercedes», известный нанопланшет с «iPad» … ? Сомневаюсь. Кстати, про отечественный автопром мне еще в самом начале карьеры один очень умный и очень высокопоставленный (бывает и такое) человек сказал: «Точка невозврата уже пройдена». Вот и напоминают эти стенания о недостаточности закона в деле поддержки отечественных производителей восторг от того, что покойник выглядит, как живой. Тем не менее, в законе о контрактной системе, по сравнению с Федеральным законом № 94-ФЗ этот подход изменился существенно. Дело в том, что предшественник (94-ФЗ) предусматривал для «иностранцев» равные условия «по умолчанию», допуская применение какого-либо особого национального режима лишь в случае, если иное установлено международным договором РФ, самим 94-м или иными федеральными законами. Теперь же национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, применяется в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами РФ. На первый взгляд, данная норма отвечает принципу, закрепленному в п. 4 ст. 4 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», предусматривающем «взаимность в отношении другого государства (группы государств)». Да и п. 3 ст. 29 этого закона (164-ФЗ), говорят, что «Товарам, происходящим из иностранного государства или групп иностранных государств, предоставляется режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый аналогичным товарам российского происхождения». Но, тут же, мы натыкаемся на оговорку, что положения ст. 29 не применяются к поставкам товаров для государственных или муниципальных нужд. То же самое касается и работ с услугами (п. 2 ст. 34). А ведь, можно вспомнить, что ст. 6 ранее действовавшего Федерального закона от 06.05.1999 № 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд" (утратил силу с 01.01.2006 г.), вообще допускала участие иностранных производителей в конкурсах, только если производство товаров (работ, услуг) в России отсутствовало или было экономически нецелесообразно. Таким образом, пройдя через уровень максимальной либерализации условий допуска иностранной продукции, российское законодательство обозначило резкий отступ от принятых в мировой практике норм. А ведь, п. 1 ст. 8 Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках гласит, что «поставщики или подрядчики допускаются к участию в процедурах закупок независимо от государственной принадлежности, за исключением случаев, когда на основаниях, указанных в подзаконных актах о закупках или других положениях законодательства данного государства, закупающая организация решает ограничить участие в процедурах закупок на основе государственной принадлежности». Или, взять наших западных соседей – Украину. Ч. 1 ст. 5. Закона Украины от 01.06.2010 г. № 2289-VI «Об осуществлении государственных закупок» провозглашает недискриминацию участников путем обеспечения равных условий отечественным и иностранным участникам процедур закупок. Более того, закон о контрактной системе предоставляет Правительству РФ право устанавливать запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей. И по сравнению с предшественником, список целей существенно расширился. 94-ФЗ предусматривал лишь один повод устанавливать ограничения на допуск «импортной» продукции – когда размещение заказов производится для нужд обороны страны и безопасности государства. В общем – вроде все для отечественного поставщика (производителя), но факты, как говорится, веешь упрямая, поэтому приходится констатировать, что картина госзакупочного рынка сохранится — отечественные поставщики с импортной продукцией. «Данная система является единственной в своем роде, аналогов её нет во всем мире» (цитата). Что-то мы все про недостатки, да про недостатки … Но зато, с полной ответственностью можно утверждать, что, по крайней мере, в одном закон действительно добился «выдающихся» результатов, а именно: при декларировании в качестве одной из основных целей «развитие добросовестной конкуренции», он ухитрился за шесть лет не только создать режим наиболее благоприятствования для недобросовестных поставщиков, но и выпестовать целую отрасль «бизнеса». Я не случайно ставлю здесь «бизнес» в кавычки, поскольку деятельность, которой занимаются такие компании нельзя назвать добросовестной. Такие «недобросовестные участники размещения заказа» используют прописанные в Законе нормы, в целях, не вполне искренне относящихся к получению государственного контракта и его выполнению. Конечно, в Законе содержится целая статья, посвященная недобросовестным поставщикам, но на деле эта норма никогда не работала. Во-первых, в реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми контракты по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими контрактов. То есть для решения вопроса о внесении в реестр, недобросовестному поставщику надо «умудриться» уклониться от заключения контракта. О второй причине даже и говорить нечего в силу полной отсталости Закона даже от Гражданского кодекса (в части процедур расторжения договора). Но даже, если такой поставщик и «загремит» в данный реестр, то потери такой компании составят только потерянное обеспечение заявки (что с лихвой компенсируется «выигранными» контрактами) и затраты на создание очередной «Рога и копыта». Нечего и говорить, что реестром недобросовестных поставщиков можно напугать только серьезную компанию, не один год находящуюся на рынке и дорожащей своим названием. Маленьким «однодневкам» реестр не более, чем некоторое досадное неудобство. Наглядный пример: нормы закона, регулирующие указание в заявках «товарных знаков». Как и многие другие, эти, на первый взгляд, разумные нормы не заработали. Почему же? В том числе, по причине того, что в России на 5 оригинальных товаров приходится 20 китайских подобий и 30 откровенных подделок, которые к зарегистрированным “товарным знакам” отношение имеют слабое. И недобросовестные поставщики быстро нашли «рецепт» противодействия … Они, отбросив излишнюю осторожность, просто стали указывать несуществующие (вымышленные) товарные знаки. Почему осторожность излишня – очень просто: во-первых, Заказчик элементарно не имеет возможности проверить, существует ли вообще такой товарный знак, поскольку поисковая система на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам работает только по номеру регистрационного свидетельства. Естественно, в заявках его не присутствует. Но даже, если попадется упрямый Заказчик, то, в силу бюрократических проволочек, он сможет это выяснить уже только после заключения контракта, когда голова уже полностью занята такой проблемой, как «отбрыкаться» от поставляемого таким поставщиком товара. Понятно, что такие фирмы сделали своей целью извлечение прибыли путём, с моей точки зрения, откровенно мошеннических действий (правовой квалификацией уж пусть занимаются правоохранительные органы). И таких поставщиков, что характерно, становится все больше и больше. Стоит отметить, что до того времени, когда 94-ФЗ «заработал» на полную мощность, такие случаи если и были, то они были поистине единичными. Самым наглядным примером стала история «всероссийских» топтунов (простите – поставщиков) расходных материалов (картриджи, тонеры). Их заявки (как, впоследствии и жалобы) абсолютно идентичны, вплоть до орфографических ошибок, «прыгания» шрифта, излишних пробелов и т.п. В глаза сразу бросался один на всех домен «rodget.ru». ООО «Эквивалент», ООО «АРТ-Сервис», ООО «Нитэк». Или ООО «НВ Технолоджи» и ООО «Торговый дом «НВ Принт», ООО «Компания ДЖЕСТ МСК» и ООО «Дэнко МСК» и многие другие. Большинство таких фирм, рано или поздно, попадает в реестр недобросовестных поставщиков, но на месте одной «головы», тут же появляется три новых. А сколько фирм функционировало вместе с попавшими в реестр или образовалось вместо них, не может сказать никто, счет идет на десятки, а может и на сотни. И каждый в своей заявке пишет, что предлагает: «Оригинальный Картридж товарного знака «ЭКВИВАЛЕНТ» («НВ Принт», «Gest», «XXLCARTRIGE» вставить по желанию). Каждый подкладывает изготовленные под копирку сертификаты, заключения, письма и пр. И каждый раз выясняется, что практически вся информация о продукции, распространяемая такими фирмами и содержащаяся в заявках, не соответствует действительности по многим причинам. Товарные знаки «Эквивалент» или «Gest» существуют, но не имеют, с юридической точки зрения, никакого официального отношения ни к ООО «Эквивалент», ни к ООО «АРТ-Сервис». А «НВ Технолоджи» вообще не зарегистрирован. Но это не мешает стоящим за всей этой «гоп-компанией» вновь и вновь выкручивать заказчикам руки, бомбардируя их заявками, запросами и жалобами, пытаясь всучить свою «некондицию». Причем подобные «поставщики» не только совершенно сознательно вводят в заблуждение государственных и муниципальных заказчиков (впрочем, как и коммерческий сегмент рынка), но, на мой взгляд, и совершают более тяжкие проступки. Ведь незаконное использование чужого товарного знака влечет за собой гражданскую, административную и, даже уголовную ответственность. Однако Федеральная антимонопольная служба откровенно уклоняется от обсуждения данной проблемы, для нее их, как бы, не существует, несмотря даже на то, что на комиссиях представители заказчиков специально обращают внимание на нее. Еще бы, ведь можно только догадываться, на какой процент сократилось бы количество участников так любимых ею электронных аукционов (до 2/3). Даешь конкуренцию! Но в таких условиях, пока 94-ФЗ еще действует, и пока не видно, как закон о контрактной системе сможет изменить ситуацию, Федеральной антимонопольной службе следовало, хотя бы на время, отвлечься от неустанной борьбы за «небывалую экономию» бюджетных средств и хоть на время обратить свой взор на проблему недобросовестной конкуренции (на рынке госзакупок), которую как раз и породил пестуемый ею закон. «По многим вещам, мы далеко шагнули вперед по сравнению с другими странами. Аналогов в мире просто нет» (цитата). Наконец, последнее - законом это «творение» (94-ФЗ) назвать вообще невозможно. «Оно же толще, чем словарь Даля, и гораздо менее связано, чем словарь Даля» (цитата). Как только он появился, при первом прочтении стало понятно, что его авторы понятия не имеют о юридической технике, а иногда кажется, что и о юриспруденции вообще. Чего стоит только норма о невозможности изменения контракта в процессе его исполнения (не заключения). Статья 1 гласит, что закон регулирует отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений (далее - размещение заказа). Далее в статье 5 сказано, что под размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд понимаются действия в целях заключения государственных или муниципальных контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров в любой форме. Девятая статья специально оговаривает, что заказ признается размещенным со дня заключения государственного или муниципального контракта или иных гражданско-правовых договоров. Следовательно, законодательно определено, что Федеральный закон № 94-ФЗ распространяет свое действие на правоотношения исключительно до заключения контракта, то есть сам себе определяет границы действия, не говоря уже о том, что сам он называется «О размещении заказов …», но не о планировании, финансировании или исполнении. Однако тут же, в этой же девятой статье, закон выходит за эти самые границы, регулируя отношения связанные уже с исполнением государственного или муниципального контракта. «При заключении и исполнении контракта изменение условий контракта ... по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается». Если бы Закон назывался «О закупках для ...» и в его целях значилось регулирование отношений, связанных с действиями, направленными не только на заключение контрактов, но и связанных с исполнением последних, он мог бы устанавливать особенности исполнения контрактов. Но, в реальности, мы имеем очевидное «превышение полномочий». Закон о КС этот юридический казус устранил, оговорив, что его действие распространяется на отношения в рамках всей контрактной системы. Зато, с видимым удовольствием, законодатели неустанно уточняли и уточняли процедурные моменты, за частоколом которых давно перестали быть видны цели закона. Все сводилось к процедурам. «Тут играем, там не играем ...». А если и играем, то презабавно. Вот скажите на милость, как возможно непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать, изменить или отозвать заявки. Причем ухитриться сделать это не раньше времени, указанного в извещении … А размещение заказа путем запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Ведь там до сих пор присутствует ошибка в статье, посвященной порядку представления заявок на участие в предварительном отборе. Почему-то заявка должна содержать выписку (или копию) из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. Какого конкурса? Откуда? Неужели, внося более 30 пакетов поправок, трудно было сам закон хотя бы один раз вообще прочитать!? Отвечаю: трудно, потому что в здравом рассудке это вообще нереально. Конечно, при профессиональном подходе, закон о контрактной системе способен превратиться в нормативный акт, в хорошем понимании этого слова, но все будет зависеть от методов улучшения. Пока же в профессиональном подходе приходится сомневаться. А как иначе, если в статье 70 закона о контрактной системе звучит, что «В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе …». Откуда опять взялся конкурс? Хотя, действительно, какая разница? Все одно – торги. Вот так во многом Федеральный закон № 44-ФЗ стал зеркалом Федерального закона № 94. «Что же зеркальце в ответ … ?». И это все - только на самый поверхностный взгляд. Проблем с, пока еще, действующим 94-м законом - море, с системой госзакупок, в целом – океан. И новый закон о контрактной системе может стать или очередной рекой, впадающей в этот океан, или первой дамбой, положившей начало процессу построения цивилизованной «гидротехнической» системы госзакупок. «А потом - светлое будущее» (цитата). |